Ехала деревня мимо мужика: что такое языковая игра?
Студенты ФиПЛа в цикле научно-популярных лекций рассказывают об актуальных направлениях лингвистичсеких исследований.
Как известно, правила созданы для того, чтобы их нарушать, и языковые нормы – не исключение. Нет, мы не призываем вас пропускать запятые и забыть об орфографии – мы лишь хотим рассказать о таком явлении, как языковая игра.
Простыми словами, языковая игра – целенаправленное нарушение литературной нормы для создания эстетического, комического эффекта, для воздействия на слушателя и других разнообразных целей. Носители языка, зная «как правильно», замечают, что при создании нетипичных, неправильных, искажённых форм часто получаются забавные и привлекающие внимание явления. Наверное, многие слышали про распространившийся в начале 2000-х в рунете «язык падонков» – это наглядный пример такого отношения к языку, проявляющийся в нарушении орфографии, то есть искажении формальной стороны языковых единиц. Другой пример – изменение содержательной нормы, основанное на алогизме, то есть нарушении логической связи в речи:
Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках… (Н. В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»)
Языковая игра происходит в совершенно разных аспектах языка: на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом уровнях, в стилистике, фразеологии и прагматике, в построении текстов.
Окружает языковая игра нас повсюду: в СМИ, художественной литературе, народном творчестве, современных произведениях, рекламе и в разговорной речи. Поэтому мы решили рассказать вам пусть не обо всех, но о некоторых распространённых и, несомненно, интересных приёмах языковой игры.
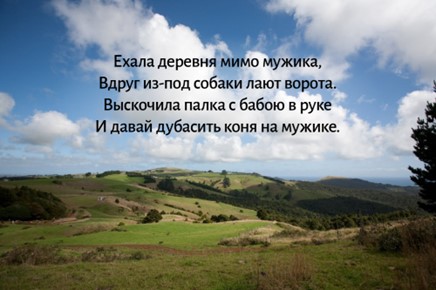
Нужно ли стучать, чтобы войти в доверие?
Языковая игра может быть построена за счет семантических механизмов языка. Семантические механизмы заключаются в любого рода манипуляциях со значениями слов, благодаря которым создаётся желаемый эффект.
Авторы часто используют многозначность слов или омонимию для создания двусмысленности либо комического эффекта, когда несколько значений слова сталкиваются в одном контексте. Такое часто происходит в интернет-мемах или в анекдотах, например:
– А я вот без пары на 14 февраля.
– А как же 4 пары в понедельник? – видим, что в одном контексте встречаются два значения слова пара: в первом случае как синоним слов партнёр, возлюбленный, а во втором – как разговорное наименование занятий в университете. Другие примеры: Менделеев долго доказывал своей жене, что на первом месте должен стоять водород, а не жена и дети. // В Москве недорогую квартиру можно снять только на фотоаппарат.
Омонимия слов используется в детских загадках «с подвохом», например:
- Какой город летает? – Орёл.
- Три да три да три. Что будет? – Дырка.
- Почему мы ходим – По земле.
Бывает так, что люди специально используют паронимы, не подходящие контексту – в стилистике этот приём называется парономазией и используется он, например, для создания иронии:
- Сейчас инциденты, которых в застойные времена за границу выслали, домой возвращаются - вместо диссиденты – его пароним инциденты.
- «Пижон» (вместо «Пежо») – крутая тачка, правда ездят на ней одни пижоны.
Также встречается замена частей сложных слов или словосочетаний на паронимичные: стресс-конференция, трёхтонное собрание сочинений, кочка зрения и т.д.
Среди других стилистических приёмов языковой игры со значениями слов можно выделить силлепс – явление, когда разные по смыслу слова становятся однородными. Они могут быть связаны с одним главным словом, благодаря чему в предложении это слово выступает сразу в нескольких своих значениях:
- Он потерял свой чемодан, затем работу, затем рассудок.
- Шли дождь и два студента: один в университет, другой в пальто. Они повстречали двух барышень: одна выходила из поезда, другая из себя.
Наконец, для комического или эстетического эффекта используется катахреза – сочетание слов с логически несовместимыми значениями: глобус России, дневная Луна, закадычный враг. Такое явление встречается в поэзии:
- Слагаются стихи навзрыд (Б.Л. Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать…»).
- Там камни, как вода, кипят (М.В. Ломоносов «Утреннее размышление о божием величестве»).
Также на катахрезе построены некоторые фразеологизмы: белый шум, есть глазами, когда рак на горе свистнет.
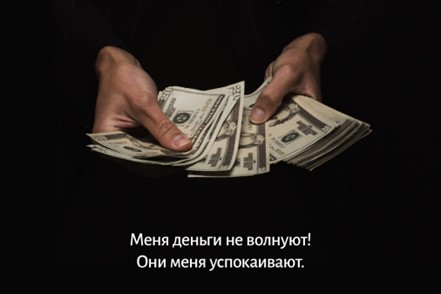
HOTELи как лучше
Носители языка замечают формальное сходство тех или иных лексических единиц в своём родном языке и хорошо владеют моделями, по которым образуются слова. Так создаётся потенциал для словообразовательной игры – изобретения новых необычных слов или словосочетаний, обладающих экспрессией и привлекающих внимание.
Приёмы словообразовательной игры заключаются в появлении новых способов словообразования: наравне с привычными нам суффиксальным и приставочным способами, сложением основ, появляются случаи создания слов посредством наложения основ друг на друга, вставкой одного слова в другое или изменением написания букв.
Например, формально сходные части двух слов могут соединяться в речи, образуя одно новое – этот приём в науке называется контаминацией. В частности, если у слов совпадают начальные и конечные звуки, то их накладывают друг на друга: тандемократия (тандем+демократия), педальтоник (педаль+дальтоник), медициники (медицина+циники), интелегенды (интеллигент+легенды) – это явление называют междусловным наложением. Также выделяется способ тмезиса, когда одно слово вставляется в другое: словралик (словарик+врать), авианедоносец (авианосец+не донести). Встречаются случаи вставки слов, словосочетаний (например: Санкт-чёрт возьми-Петербург ) и даже целых высказываний с разрывом исходной единицы:
Люб-
(Воздуха!
Воздуха!
Самую малость
бы!
Самую-самую...)
лю!
(Р.И. Рождественский «До твоего прихода…»)
Иногда для того, чтобы придать слову новый смысл, меняют написание его части – такой способ называется графической деривацией. Лингвисты выделяют три вида графической деривации. Первый вид – монографиксация, когда используются средства одного языка. Часто это чередование верхнего и нижнего регистров букв: ОбЛУЧение (о победе команды «Луч»), аптекаАлоэ, naXODka, переПАРКуется (в названии статьи о парке). Можно также вспомнить некогда распространённое в интернете написание зАбОрЧиКоМ. Второй вид – полиграфиксация – использование средств разных языков: SPAсение, PROлёт, HOTELи как лучше, Smartшахтеры. Наконец, третий вид графической деривации – кодографиксация, когда используются всевозможные неязыковые символы: про100, 3Dевятое царство. Этот способ словообразования характерен для создания интернет-ников: Art_em322, 6JIu33u, vv_3a9c, kita2038 и т.д.
Последний приём, о котором мы расскажем сегодня – рифмованное сложение, которое также называют рифмованной редупликацией или «фокус-покус приёмом». В этом случае слово создаётся из двух основ, одна из которых рифмуется с другой. Некоторые такие слова уже закрепились в языке, например, фокус-покус, танцы-шманцы, гоголь-моголь, но встречается и множество окказиональных вариантов: грешники-ЕГЭшники, разговоры-воры, счётчик-налётчик и другие.
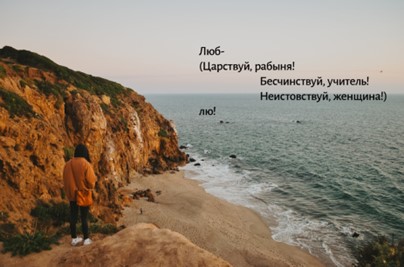
Цирк уехал, а комментаторы остались
Люди часто используют в речи фразеологизмы, пословицы, поговорки, афоризмы и другие узнаваемые всеми носителями языка речевые формулы. Это позволяет не только выразить свою мысль, но и привлечь внимание слушающего за счёт отсылки к знакомому ему культурному прецеденту: например, афоризм тварь я дрожащая или право имею заставляет русского человека вспомнить об известном романе Достоевского. Поэтому носители языка часто «играют» с этими языковыми единицами, создавая новые, апеллирующие к культурной памяти слушающего и одновременно позволяющие автору оригинально выразить свою мысль.
Часто встречается языковая игра в сфере фразеологии. Например, используется приём фразеологического эллипсиса – опущение части фразеологизма, которая восстанавливается по контексту:
- Ни к чему всё это. Метать бисер (Ю.В. Трифонов «Старик»).
- Он неторопливо смотрел в иллюминатор и увидел наконец за последней горой синюю полоску моря, сады, домики, утопающие в зелени, - и всё это было облито солнцем. Вот она, обетованная… (Травкин А. «Синие дали»).
Наибольшей экспрессией обычно обладают случаи замены – субституции – компонентов фразеологизма:
- Цирк уехал, а комментаторы остались.
- Кровный день календаря (заголовок новости о сдаче крови)
- Я же никогда не говорю на ветер… (М.А. Булгаков «Собачье сердце»).
- ...с полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами (М.А. Булгаков «Собачье сердце»).
Иногда носители языка идут дальше и создают новые фразеологизмы на основе существующих. Например: Юрий Михайлович отвел глаза в сторону и подумал, как же это он не замечал, сколь Ира великолепна ... За лекарствами леса не увидел, за аптекаршей женщину не разглядел (Ю. Карелин «На что жалуетесь, доктор») – структура и смысл этого предложения основаны на фразеологизме за деревьями леса не увидеть. Кроме того, встречаются случаи изменения смысла фразеологизма, основанные в том числе на прямом значении слов в его составе:
- Скатертью дорога – как заголовок статьи об открытии новой дороги.
- Ловись, рыбка – в статье о рыболовстве.
Вышеперечисленные приёмы используются не только для фразеологизмов, но и на основе других языковых единиц, отсылающих к культурным прецедентам. Например:
- изменённый афоризм А.П. Чехова выдавливать из себя по капле раба в контекстах …кто-то должен по капле выдавливать из себя дилетанта, неуча, начётчика (А.В. Эфрос «Профессия: режиссёр»); Как говорил буржуазный писатель Чехов, надо по капле выдавливать из себя жлоба («Стиляги»);
- название популярной песни All I Want For Christmas Is You в заголовке заголовок All I want for Christmas is… NFTs.
Сюда же можно отнести создание «антипословиц» – случаи типа:
- Не плюй в колодец, вылетит — не поймаешь
- Тише будешь – дальше уедешь
А также построение новых единиц, подобных пословицам, для создания комического эффекта:
- Предприниматели всех стран, налогооблажайтесь!
- Время как шкаф: всегда можно найти, чем его наполнить.
Эти и другие примеры демонстрируют огромный потенциал создания новых языковых единиц на основе известных культурных прецедентов.
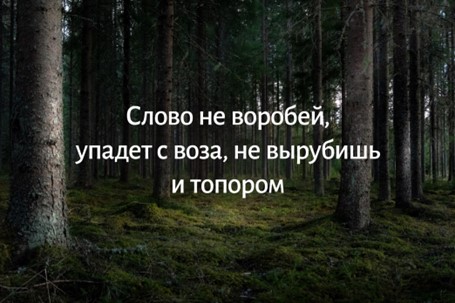
Отдушина – это когда дарят от всего сердца
В финале стоит поговорить о народной этимологии. Она представляет собой интерпретацию человеком происхождения слова через формальное сходство с другими словами. Например, слово подушка в рамках народной этимологии осмысляется как производное от под ухом или спинжак (искажённое пиджак) как вещь, которую носят на спине. Ложная интерпретация этимологии может влиять на реальный морфемный состав слова: так, слово зонтик – заимствование от голландского zondek – воспринималось носителями русского языка как уменьшительно-ласкательное, из-за чего появилось слово зонт. Ложная этимология также лежит в основе антинаучных теорий происхождений слов, однако интереснее всего то, что именно она даёт потенциал переинтерпретации значений слов в рамках языковой игры.
Носители языка выделяют в слове элементы, не входящие в его реальный морфемный состав, но схожие с настоящими словами или морфемами, и на основе их значения придумывают новое толкование этого слова. Б.Ю. Норман в книге «Игра на гранях языка» представил целый энтимологический словарь – словарь шуточных дефиниций, основанных на народной этимологии. Вот некоторые статьи из него:
Аналоговый – не облагаемый налогом (ложный морфемный состав: приставка а- со значением отсутствия чего-либо и корень налог).
Краб (старослав.) – короб (обыгрывается историческое чередование неполногласного сочетания -ра- в заимствованиях из старославянского и полногласного -оро- в родственных исконно русских словах – город/град, ворота/врата).
Отдушина – подарок от всего сердца (интерпретация происхождения слова от формы от души).
Можно выделить несколько типов народной этимологии, которые лежат в основе этих шуточных определений. Во-первых, случаи, когда семантика слова складывается из значений обнаруженных в нём основ: интерлюдия – многонациональный коллектив (интер+люди), барбос – хозяин бара (бар+босс). В том числе с обнаружением иностранных слов: гастрит – улица площадью 1 га (га+стрит), договор – человек, крадущий породистых собак (вор+дог). Во-вторых, обнаружение аффиксов (некорневых морфем): вареник – ученик повара (варить+-ник); ариец – действующее лицо в опере (ария+-ец). В-третьих, встречается обыгрывание многозначности слова: жалованье – петиция (от глагола жаловаться), великодушие – многолюдность (душа в значении человек). В-четвёртых, обыгрываются омонимы в составе слова: безбрачие – качественная работа (где брак I – супружество и брак II – изъян), везение – транспортировка. Отметим также случаи, когда слово получает сразу несколько интерпретаций: тяжба – 1. соревнование штангистов (от тяжёлая атлетика); 2. влечение (от тянуть).

На этом мы заканчиваем наш разговор о языковой игре. Теперь вы знаете, как создавать новые, необычные, привлекающие внимание слова и выражения с помощью разнообразных средств нашего родного языка!
Список источников:
- Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество // Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург. 1996. 215 с.
- Дубичинский В.В. Лексические аспекты языковой игры в русском языке. // Studia Rossica Posnaniensia. 2019. №2. С. 209–220.
- Ермакова Е.Н., Прокопова М.В. Трансформация фразеологических единиц в языке СМИ: лингвокреативный потенциал языка спортивного комментатора // Вестник КГУ. 2016. №3. С. 152–154.
- Зайцева Е.А. О некоторых способах образования окказиональных слов (на материале современных СМИ) // Самарский научный вестник. 2014. №1 (6). С. 50–53.
- Ильясова С.В. Словообразовательная игра: от лингвокреативности до лингвоциничности (на материале языка современных российских СМИ) // Политическая лингвистика. 2020. №3 (81). С. 39–45.
- Лекова П.А. Трансформация фразеологических единиц как способ языкового манипулирования в СМИ // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. 2017. №3. С. 60–66.
- Норман Б.Ю. Игра на гранях языка // Б.Ю. Норман – М.: Флинта: Наука. 2006. 344 с.
- Рацибурская Л. В., Бусарева С. Г. Проблема поликодовости как синтеза вербальных и невербальных средств воздействия (на материале медийных новообразований) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2021. № 18 (4). С. 831–846.
Автор:
Исаков Данила, 22ФиПЛ

